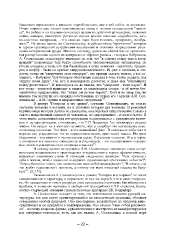Page 24 - МИР-2
P. 24
Владимов справляется с живыми подробностями, сам в той войне не воевавши. Очень хороша уже только вступительная поэма о гонком генеральском "вилли- се". Не робеет и со знанием описывает детали из действий артиллерии, танковых войск, авиации, кавалерии. Детально изучил многие военные подробности, лич- но-опытные материалы, - это сколько надо было вникать, прозревать, вообра- 4 жать" . Не менее важно, по Солженицыну, и субъективное "прочтение"' автором и героем пронизанной острейшими коллизиями и тяжкими потрясениями соци- ально-исторической среды. Именно поэтому, довольно обстоятельно прослежи- вая развертывание одного из центральных образов романа - генерала Кобрисова, А. Солженицын акцентирует внимание на том, что "к самому концу книги автор придаёт" полководцу "как будто способность человековедения: оказывается, он всегда понимал и знал, что три ближайших к нему человека - адъютант, ордина- рец и шофёр - были на крючке оперуполномоченного. И, уже в отставке, к ста- рости, когда он "вымучивал свои мемуары", где правды сказать нельзя, а все со- чиняют, – Кобрисов "всё большее облегчение находил в том, чтобы уходить под защиту своей дури". Он, вот, и командовать расхотел, и даже ему "вспоминать войну расхотелось". И докоснулся он до мысли, что "умирание - тоже наука". И вот тогда - теплотой приходит в память та мимоходная сестра - и её почти без- ошибочное предсказание, что "ляжет он на том берегу". Хотя и не умер там, но именно там настигли его снаряды собственные, из пушек его / курсив А.И. Сол- 5 женицына – А.М./ армии и направленные смершевцы" . В центре "Генерала и его армии", согласно Солженицыну, не только значение человека в истории, но и значения истории для человека. В романной картине мира история далеко не самоценна, она обретает существование только в связи с нравственной оценкой её человеком, но одновременно - и своего бытия. В этом плане солженицынская интерпретация перекликается с суждениями крити- ков и литературоведов, считающих, что Г.Н. Владимов "не архивирует реалии жизни. Он вводит их в контекст вечности, как и подобает это настоящему клас- сическому писателю. Это факт - и это важнейший факт. В локальных событиях и перипетиях угадывается что-то парадигматическое, притчевый смысл. Истории Владимова - это притчи о человеческом уделе. О русском человеке. И его герои, с которыми ты невольно сживаешься и роднишься, - это одновременно выраже- 6 ние некоего универсального поприща и смысла" . И потому далеко не случайна А.И. Солженицын завершает свою интер- претацию владимовского произведения утверждением о чертах афористичности, присущих языковому строю И приводит следующие примеры: "Чем привязать себя к жизни, чтобы подольше выдержать одолевающее притяжение небытия?"; "Божье братство полов, так пленительно меж собой враждующих"; "В стране, где так любят переигрывать прошлое, а потому так мало имеющей надежд на буду- 7 щее" ; [2; 151]. Размышления А. Солженицына о романе "Генерал и его армия" не носят самодовлеющего характера, а вырастают из тех же корней, что и само творчест- во. Он продолжает в новых ракурсах своё осмысление некоторых бытийственных проблем, и значения человека в глобальной трагедийности ХХ столетия, безжа- лостно стирающей «великие гуманистические критерии» (Ж. Бодрийяр). А. Солженицын исходит из того, что эстетическое качество русской ли- тературы, так или иначе ориентирующейся на классические традиции, обладает совершенно особой природой. Оно неоспоримо, воздействует на читателя непо- средственно и не нуждается в подтверждении. Оно словно "само собой разумеет- ся" - поэтому вопросы формы, художественного мастерства не манифестируются как суверенно-отдельные, хотя, как мы видим, А. Солженицын в полной мере – 22 –